Солженицын-Россия-Оруэлл
30-06-2018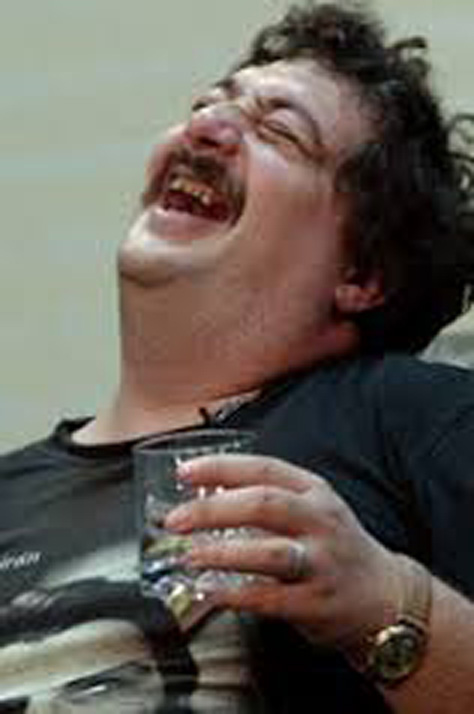 Солженицын не только художник, хотя он наследует Достоевскому, и архетипически его воспроизводит. Он крупный художник, но он еще и социальный мыслитель. И вот, как у социального мыслителя, у него два пункта всего, это довольно просто.
Солженицын не только художник, хотя он наследует Достоевскому, и архетипически его воспроизводит. Он крупный художник, но он еще и социальный мыслитель. И вот, как у социального мыслителя, у него два пункта всего, это довольно просто.
Главный принцип – это сбережение народа, то есть хорошо все, что способствует размножению, долгожительству, процветанию, а вовсе не самооценке. Самооценка – это тоже важное дело, но не главное, важно этому народу пока, хотя бы несколько лет прожить без искусственной травмы, без постоянного жертвования собой в пользу государства. Второй… нет, их три, наверное, три таких кита его мировоззрения. Второй принцип – это самоуправление. Солженицын очень верил в идею земства. Реформы Александра Второго его вполне устраивали. Незаконченность этих реформ казалась ему главной проблемой Февраля. Понимаете, он считал – совершенно искреннее, и думал, что правомерно, – что все истоки Октября уже были заложены в Феврале. А причина Февраля – это несвершенность, незавершенность реформ 60-х годов. Прежде всего, реформы самоуправления. Вот земство представлялось ему спасением от вертикали. Вертикаль, конечно, не способствует централизации, не способствует развитию. Невозможны справедливые суды при вертикали…
Стоит сказать, что необходимо самоуправление, тут же раздаются крики, вопли: «Не вы страну собирали, не вам ее и разбазаривать». Да какое же здесь разбазаривание? То, что на местах будет сильная власть – помилуйте, кому же от этого плохо? Идея Солженицына очень проста: без самоуправления невозможно развить общество, невозможно динамика, потому что власть, находящаяся наверху и зацикленная, сосредоточенная в одном кулаке, она по определению не может вникать в проблемы, возникающие на местах, — ну это закон, с этим очень трудно спорить. Мне представляется, что в ближайшее время идея земства – действительно, скомпрометированная, не доведенная до ума, по-чеховски фальшивая (помните, Чехов постоянно говорит о фальши страшной этого земства, и Толстой в «Анне Карениной» об этом пишет), – эта идея будет реабилитироваться, эта идея будет возвращаться. Она насуще необходима.
Есть третья идея Солженицына – тоже очень важная, тоже к Путину не имеющая никакого отношения. Считалось, что Иван Денисович – это такой для Солженицына протагонист. Это важный для него герой и что он хотел в образе этого неубиваемого народного героя показать как терпелива, и как добра, и как вынослива русская масса. Крестьянство какое неубиваемое, как живы в нас, так сказать, основы народной нравственности, и в особенности, конечно, Хрущев постарался, который говорил после «Ивана Денисовича», что это не антисоветская вещь, она показала, как вопреки всему мы остались людьми… Да совершенно не это она показывает!
Слушайте, Иван Денисович – терпила, и он не вызывает у Солженицына никаких чувств, кроме бесконечного сострадания, слезного сострадания. Как и Матрена в «Матренином дворе». Матрена – это праведник, конечно, «не стоит село без праведника», но это вовсе не герой сопротивления. А для Солженицына герой, во всяком случае, «Ивана Денисовича», это кавторанг, это Алешка. Вот сектант Алешка, который свою веру никому не отдает. Правильно Лакшин совершенно писал, что разговор Ивана с Алешкой – это отражение разговора Ивана с Алешей в «Братьях Карамазовых». Конечно, Солженицын имел в виду эту параллель, и конечно он себя в известном смысле ладил под Достоевского, ну даже и во внешнем облике. Поэтому делать из Ивана Денисовича героя – это власть может, потому что власти такой герой удобен. Понятно это заявление Хрущева.
Конечно, на самом деле, герой для Солженицына – это человек с убеждениями, человек несгибаемый. Там он писал об одной героине ГУЛАГа, вот: «Побольше таких людей, как она, другая была бы история России». Люди, которые не сопротивляются, которые абсолютно пассивно, покорно идут под этот обух… Помните, у него в стихах ранних:
На тело мне, на кости мне
Спускается спокойствие,
Спокойствие ведомых под обух.
Это совершенно не та добродетель, которую Солженицын склонен уважать в людях.
Солженицын — борец; для него терпилы — это, в лучшем случае, может быть, плод нации, но не её костяк. А костяк — это люди, способные сказать «нет». В этом смысле он уважал многих прибалтов, сидящих за революционную деятельность или за партизанство, или за веру, но особенно он уважал бывших офицеров советской армии, оказавшихся в заключении по доносу. Офицеров, не смирившихся с новой ролью, или старой ролью, винтиков после войны; таких офицеров, как он сам.
Ведь Солженицын – это офицер выросший на войне, который на войне преодолел свои наивные взгляды времён «Р-17», времён своего первого романа «Люби революцию». В 45-м году Солженицын – зрелый человек, ему 26 лет, он начал о многом задумываться, – вот тут-то его и арестовали. Понимаете, его взяли за то, что он прозрел. Он ценил таких людей, как Анатолий Марченко. Понимаете, если уж мы сейчас вспоминаем о Сенцове. А Марченко, погибший после 117-дневной голодовки. Он ценил, он преклонялся именно перед такими людьми именно из массы, именно от корней, которые пошли до конца, а людей, способных всё перенести, он ценил гораздо меньше. Другое дело, что не всякий бунтарь вызывает у него сострадание. Есть бунтари такого типа, как Шаламов, например, который ему противоположен по всем векторам. Но тем не менее Иван Денисович – это далеко не любимый герой Солженицына. Именно поэтому я не думаю, что нынешняя Россия хоть в какой-то мере соответствует солженицынскому идеалу.
«Какой путь должны избрать демократы, чтобы быстрее изменить режим? Каспарова, который призывает не иметь дело с властью; или сделать ставку на Навального как единственного лидера; создать объединённую на широкой основе партию; или вы видите другой путь?». Дожить. Просто дожить. Как говорил Аксёнов, «надо просто их пережить». Не любой ценой доживать, конечно. Но в России всегда перемены происходят таким, я бы сказал, историческим, или, если угодно, сейсмологическим путём, это подземные движения. Или хронологическим, климатическим… Подземные движения, к которым наша активность имеет очень малое отношение. Вы можете много спорить о том, как лучше приблизить весну, разбивать ли, например, лёд на реке, или разводить костёр на этом льду, или устраивать заплывы к проруби. И то, и другое, и третье хорошо, всё это приближает весну, но приближает её, скажем, незначительно. Сейсмические движения не зависят от человеческих усилий, и даже я не очень верю в то, что землетрясение в Мексике устроили синхронным прыжком несколько миллионов болельщиков. Не верю в это. Мне кажется, что зимой есть варенье и пить с ним чай, а летом собирать ягоды и варить варенье, – это более уместный путь.
Вы ничего не можете сделать с климатом? Ну да. Бывают затяжные зимы, но весну ещё никто не отменил; то есть приспосабливаться к режиму так, чтобы он заставил вас надевать ушанку, но не заставил вас предавать товарищей, скажем так, выгонять их из квартир. Но и кроме того, мне представляется, что любые действия, направленные на увеличение тепла в зимний период: то есть эмпатия, сострадание, просвещение, пропаганда простых человеческих ценностей, всё это очень важно. А как устроить весну – тут важнее подумать о том, как устроить такой климат, который не определялся бы только вот этой циклической парадигмой. Климат, который зависел бы более менее от домашнего, что ли, отопления какого-то. То есть научиться топить в домах, чтобы не каждая зима вымораживала всех до основания.
У меня есть еще ощущение, что перемены, которые произойдут в России, они будут неполитическими. Просто политика будет все дальше уходить от власти, точно так же, как и культура все дальше уходит от цензуры. Появление Интернета, такое доминирование сетевых структур, по Делезу и Гваттари, такая ризома, грибница, которая сопротивляется вертикализации, – все это приведет к тому, что люди будут меньше голосовать и жить независимо от политических правил, что они будут другими правилами управляться. Вот к этому дело и ведет. И то, что люди голосуют за Путина, – это ведь они не за него голосуют. Понимаете, в России был бы полновесный тоталитаризм. Они не верят в Путина, они не верят никаким словам, они смеются откровенно, о чем мы в первой четверти эфира говорили. Они издеваются над принципами этой власти. Они живут в состоянии внешней лояльности, а внутренне они совершенно никому не подконтрольны.
Внешняя картина российской жизни не должна никого обманывать. Именно поэтому общество выбирает не диктатора. Оно выбирает независимость, оно выбирает в конечном счете неуправляемость, или, вернее сказать, вот то самое самоуправление, о необходимости которого так много говорил Солженицын. Просто институты этого самоуправления пока не простроены, а в общем будет происходить то, о чем я довольно давно мечтал. Это моя старая надежда: оставьте им Кремль и Рублевку, а остальные люди построят страну, которая живет сама по себе. Возможен ли полный авторитаризм? – я не думаю. Точечные посадки – да, может быть, со временем, и от них как-то удастся заставить отказаться.
Оруэлла очень трудно приписать к какой-то политической силе. Я бы назвал его анархистом, в общем, да он и ближе всего к анархистам по своим взглядам. К таким, к кропоткинским, к бакунинским, к идейным анархистам. По большому счету, его политическая позиция неопределима, потому что он всех станов не боец.
Оруэлл, который на самом деле является по первому роду занятий журналистом и литературным критиком – в качестве романиста он написал не так много, вот «Да здравствует фикус» да «1984», – он представляется мне одним из главных пророков 20 века, и «Памяти Каталонии», документальная повесть, наверное, главное его произведение, в том смысле, что оно как-то наиболее наглядно показывает произошедшее в XX веке. Что же произошло?
Вот Испания – она осталась, конечно, в тени, потому что Вторая мировая война происходила на других театрах. Но Испания была ключевым событием 30-х годов, она готовила людей к тому, что произошло в 40-ые. Там фашизм победил, и это вызвало всеобщую депрессию, об этом Оруэлл как раз пишет удивительно откровенно. Но проблема в том, что в Испании все потерпели поражение. Коммунисты потерпели поражение, республиканцы, анархисты, военные, религия, которая была республиканцами практически уничтожена. Дело доходило до прямых расстрелов священников, взрывов церквей. Я здесь вижу очень много остатков церквей, или, во всяком случае, площадей, устроенных на месте разрушенных храмов. Это было, и было в большей степени даже, более тотально, чем в России. В республиканской, насквозь коммунистической и анархистской и, в любом случае, антифранкистской Каталонии тоже свирепствовали такие нравы. И вот это тотальное поражение привело к великому испанскому духовному кризису, выход из которого, я полагаю, не был достигнут, потому что Франко – это как раз классический пример того, как человек 40 лет продержал страну в параличе. Она вышла как-то из этого паралича, но все равно, в состоянии глубочайшего внутреннего неблагополучия. Предпосылки этого паралича Оруэлл раскрыл очень объективно.
«Памяти Каталонии» – ужасно честный текст, вот в чем ужас. Текст абсолютно объективный. До некоторой степени это такой роман, что ли, антихэмингуэевский, по какому параметру: ведь Хемингуэй написал «По ком звонит колокол» с тем же пафосом. Коммунисты плохи, франкисты вообще отвратительны. Частному, честному человеку остается быть на стороне, условно говоря, меньшего зла и лучшее, что он может сделать, – это погибнуть. Так вот, если угодно, хемингуэевский герой, который не погиб, – это и есть герой Оруэлла.
Но повесть Оруэлла заканчивается довольно странно. Кстати, он пережил тоже смерть и воскресение, там потрясающее описание этого пулевого ранения в шею, когда пуля прошла в миллиметре от артерии, и он ведь не почувствовал боли. Там поразительно у него написано, что пуля проходит через человеческое тело с такой скоростью, что как бы наркотизирует. Там он боль начинает испытывать только через 20 минут, когда у него заболела рука и его положили на носилки. В первый момент он вообще почувствовал только сильнейший электрический толчок.
Эта пуля, которая заставила его как бы умереть и воскреснуть, она привела его к удивительным выводам: как бы побывав на той стороне смерти и пронаблюдав с удивительной британской хладнокровностью все свои мысли, мысли о жене, мысли о том, что в мире его устраивало и неохота его покидать, и так далее; он приходит к очень странному финалу, странному финалу этой книги.
Когда он возвращается в Англию и едет по родной уютной Англии среди зеленых пастбищ и сытных коров (в один день 1938 года), и холеных лошадей, и думает о том, какая прелесть это спокойствие и как уютен этот мир, если только он не будет разбужен бомбами. Но и бомбы, которые довольно скоро посыпались на Британию, его не уничтожили. Потому что, как мы помним из Черчилля, «британцы в минуты экстремальные испытывают спокойствие духа и особенную любовь к родному бренди». Вот поразительное спокойствие перед лицом катастроф и достоинство, как главный принцип, – это то, к чему приходит Оруэлл.
Понимаете, у него ведь, собственно, вся эта книга, «Памяти Каталонии», да и, собственно говоря, «1984» тоже – это о том, что ни одна из идеологий XX века ничего человеку хорошего не дала. А Оруэлл был довольно убежденным социалистом, хотя и с серьезными оговорками. Примыкая к ПОУМ в Испании, он довольно полно и искренне разделял их ценности анархические. К коммунистам он относился скептически, но хотел перейти в интербригады под руководством коммунистов, потому что они были более радикальны, более успешны в бою. Республиканцы воевать совершенно не умели, он подробнейшим образом описывает эту грязь, вонь, беспомощность.
Кстати, у него совершенно нет этого хемингуэевского благородного пафоса войны, потому что Хемингуэй все-таки репортер на этой войне, а его герой Джордан, да и, кстати говоря, сам Оруэлл, они воют по-настоящему, и для Оруэлла это все дерьмо, прежде всего дерьмо и больше всего – дерьмо. Все завалено экскрементами и нечистотами. Он постоянно подчеркивает, что запах войны – это запах разложения и фекалий. Этого обожествления войны как решения всех проблем, как фундаментального права, нет. Он наоборот пишет, что все время, большую часть времени он бездельничал, что эти 115 дней были самыми праздными в его жизни. Хотя он там дважды подвиги совершал, гранаты кидал, в дозоры ходил, и один раз чуть не погиб.
Вот важно, что для Оруэлла в этой войне по определению все отвратительны. Он пишет, что всякая война, и эта в том числе, большое надувательство. Ни одна идея не принесла правоты. Значит, видимо, дело не в политике, дело не в идеях, а, видимо, дело в частном человеческом достоинстве, которое есть единственный механизм, потому что это частное человеческое достоинство не позволяет вам манипулировать, не позволяет внушить вам комплекса вины.
Что надо подчеркнуть в Оруэлле? Оруэлл прекрасный стилист, прежде всего. Он очень сильный, ясный, четкий писатель. Разбирая гитлеровский талмуд под названием «Майн Кампф», прости господи, что хорошее слово «талмуд» я использую применительно к этой нуднейшей, бездарнейшей, вонючей книжонке, он как раз наглядно показывает, каким образом стилистически оформляется тоталитаризм, каким образом стилистически оформляется зло. Как оформляется ложь, с помощью каких уловок и приемов, как формируется новояз. Он, я думаю, героически разоблачил и изобразил все способы одурить массового человека. Вот в этом величие Оруэлла, в этом его несомненная заслуга. А что делать? Наверное, не дать себя оболванить, это во-первых. А можно ли рекомендовать модель поведения Оруэлла как идеальную: присоединяться к слабейшим? Ну, наверное, модель поведения Оруэлла справедлива, но… Почему он говорил, пошел воевать в Каталонии? «Не потому, что я симпатизировал республике, хотя я ей скорее симпатизировал. Не потому, что мне нравились коммунисты – боже упаси, – или анархисты, черно-красные, со всей их благородной храбростью. Нет, просто, – пишет он. – Я противостоял такому очевидному злу, которое побеждало на всем континенте, что победа его могла бы ввергнуть человечество в слишком безнадежный пессимизм». Вот, наверное, так. Надо противостоять очевидному злу.
Коммунистическая ложь представляется ему все-таки меньшей в тот момент, менее беззастенчивой, чем ложь франкизма, чем ложь захватчиков, путчистов.
При этом он, как всякий истинный британец, уважает храбрость и эффективность, и поэтому интербригады вызывают у него полное уважение. Русские пушки ему, кстати говоря, очень нравятся, потому что они тяжелые, массивные и надежные. В любом случае, Оруэлл за то, чтобы порядочный человек выбирал не за, а против. Вот против чего он.
Кстати в этом смысле Оруэлл и сегодня наш добрый советчик. Потому что вот ту говорят: «А нет человека, за которого можно голосовать», – так вы не голосуйте ни за кого. Попытайтесь бороться против явного и очевидного зла. Против – прежде всего – тотальной лжи. Потому что по Оруэллу ложь – основа всякого зла. Вот кто врет, кто начинает врать, – тот более незатейлив. Вот там когда он «Гардиан» ругает, он все-таки говорит, что эта газета врала меньше остальных, она выглядела на этом фоне более достойной. Там есть у него специальная сноска.
Я подозреваю, что исторический пессимизм Оруэлла, он даже не столько исторический, сколько антропологический. Потому что «Ферма животных», она же известна под названием «Скотный двор», наверное, это блистательная сатира, очень точная, но в ней заложена такая, несколько уэллсовская мысль. И надо сказать, что уэллсовский «Остров доктора Моро» – это такой пролегомен к «Ферме животных», это вообще очень британская, очень важная проблема. В «О, счастливчике» она есть.
Что отличает человека от свиньи, что отличает его от животных? Тем более, что они генетически очень похожи. Эту проблему Уэллс пытается решить в «Острове доктора Моро», и говорит, что ни болью, ни лаской, ни законом нельзя воспитать животного. В человеке есть божественная искра, и ее ничем не заменишь.
«Ферма животных» – она потому терпит чудовищный крах под руководством свиньи Наполеона, что это животные, понимаете? Человеческую утопию он написал потом, но все-таки Уинстона не удается окончательно превратить в животное, его можно сломать, но сделать его свиньей нельзя. И, собственно, об этом и весь роман. Ведь «1984» – это ведь не роман о том, что тоталитаризм всесилен, и не о том, что у человека нет внутреннего ресурса ему противостоять, нет. Он о том, что даже сломанный человек, – все-таки не скотина. Вот эта такая величайшая правда Оруэлла, великого пессимиста, который все равно продолжает надрывно, натужно верить в человеческое достоинство.
Вот это, наверное, единственный вывод, который можно сделать из всех его сочинений. Он циничный человек, конечно, он атеист, как всякий атеист он суеверен. Его отношение к религии, наверное, с наибольшей наглядностью выражено в эпиграфе к «Фикусу», где взят отрывок из апостольского послания: «… Что человеку пользы, если он все имеет, а любви не имеет», и «любовь» заменена на «деньги». И во всей цитате поставлены «деньги». Что пользы человеку, если он денег не имеет? Получается очень смешно. Но будучи вот таким жестоким насмешником, я думаю, он просто подходил к христианству с другой стороны. Потому что «1984» – это книга очень христианская. Кстати, она вскрывает главный корень любой лжи – это страх. Человек панически боится собственных тайных страхов, как Уинстон боялся крыс. Именно поэтому крысами его и сломали. Со страхом бороться, вероятно, нельзя. Но можно учиться что-то ему противопоставлять. Секс, конечно, хороший антистраховый допинг, ну и наверное то, что и самого Оруэлла заставляло как-то не сгибаться: наверное, талант и стилистическое чутье, наверное, то самое человеческое достоинство.
В общем, на выходе из XX века мы получили Оруэлла как основного пророка этого столетия, который показал, к чему приводят все внешние преобразования, все революции. А он показал и недостаточность концепции просвещения, конечно. Потому что никакое просвещение проблемы не снимает. Проблема, видимо, в одном, – в самоуважении, и именно поэтому он утешается, успокаивается на Британии. Ведь Оруэлл – очень британский. Дело не в том, что он вырос в колониях, и не в том, что он итонский выпускник, и не в том, что он общался в кругу рафинированных британских интеллектуалов и сам был один из них. Но вот эта концепция достоинства, концепция самоуважения, которой дышат, кстати говоря, и книги Черчилля…
Вот интересно, что Оруэлл назвал своего героя именно Уинстоном, а ведь он при этом, в каких-то главных проблемах, он вполне себе союзник Черчилля. Он почти его единомышленник. Он, конечно, ненавидит консерватизм, он, конечно, формально говоря, противник аристократии, но, назвав героя Уинстоном, он как-то адресуется к Черчиллю, и наверняка он скрыто полемизирует, а вместе с тем и сострадает ему. Тут ведь что важно, опять-таки: что черчиллеанская концепция консерватизма, изложенная в шеститомнике о Второй мировой войне, по сути своей как раз не консервативная. Она не предполагает сохранения традиции любой ценой. Она предполагает сохранение человеческого достоинства, человеческой отдельности, человеческой невписанности в любые сообщества авторитарные, и в этом смысле, конечно, в конце концов, Оруэлл успокоился на той же идее, ну, не успокоился – мы не знаем финала его эволюции, он умер в 46 лет от туберкулеза и куда бы он еще пошел, этот непредсказуемый человек, – непонятно.
Это вот та апология личности, на которой построена вся книга Черчилля. Очень любопытно, что шеститомный роман Черчилля (я называю это именно романом воспитания нации), его шеститомник о Второй мировой войне, автобиографический абсолютно и очень пристрастный, – эта книга заканчивается тоже апокалиптическим мрачным прогнозом. Он говорит, что человечество произвело супероружие, и неизвестно, сможет ли оно с ним справиться. Мы справились с одним абсолютным злом, но очень может быть, что погибнем от другого. Это заложено, собственно, в книге, на этом она кончается, это ее мрачный финал. Но давайте помнить о том, что даже в условиях вот этой послевоенной мрачности – а по фултонской речи мы знаем, что Черчилль необъективно и нежизнерадостно оценивал итоги войны, – даже в обстановке этой мрачности у человека остается одно – возможность видеть и говорить правду.
«Памяти Каталонии», которую все расценили как предательство, со всех сторон, сказала эту правду, и надо сказать – на чем я хочу закончить, – такая трагедия Испании показала нагляднее всего, что ни одна политическая, ни одна философская сила не заменит человеку его собственного критичного «я». Катастрофа Испании заключалась в том, что одному злу противостояло другое зло, и они с одинаковой силой стирали человека. Наверное, франкизм – вот эта испанская разновидность фашизма – она была не так чудовищна, как фашизм немецкий. И именно поэтому противостояние мировому злу не сумело объединить все силы. В Испании продолжались жесточайшие склоки, о которых, кстати, Хемингуэй в «Колоколе» рассказал очень объективно. Именно поэтому книга в СССР и была так долго запрещена. Вот в Испании не было однозначности в этой проблеме. В Испании зло было не такого масштаба, как в Германии, хотя тоже, конечно, мерзкое довольно. Вот именно в Испании поэтому формировались такие поэты, как Леон Фелипе, как Рафаэль Альберти, который все-таки закашивал под коммуниста и не так честно прожил свою жизнь, свой путь. Именно Испании предстояло сформировать новый тип человека, который независим от всех соблазнов столетия.
Я не знаю, как она с этим справилась. Вот Унамуно, на мой взгляд, с этим справился блестяще, который был антифашистом, но при этом не был коммунистом. Я думаю, что испанский кинематограф каким-то образом справился с этим. Я думаю, что какие-то выходы из этого, хотя уж совсем парадоксальные, демонстрировал и Дали. Но Оруэлл показал трагедию и отчаяние человека, который предпочтет остаться совершенно один, но говорить свою правду. Вот в этом смысле как-то в Оруэлле сегодня важный урок для многих. Поэтому говорить: а вот посмотрите, как вы непопулярны, как за вас никто… – это самый большой комплимент. Потому что пока за нас никто – значит, мы себе равны. И в этом победа. Победа человека не в том, чтобы завоевать большинство. Победа человека в том, чтобы не дать собою позавтракать: ни в духовном, ни в материальном смысле. И как можно большее количество народу спасти вот от этой участи, от участи превращения в биологический материал. Может быть, именно в этом залог победы и свободы.
По материалам Один "Эхо Москвы" подготовил В. Лебедев














 (Голосов:8, Средний балл: 3,75 из 5)
(Голосов:8, Средний балл: 3,75 из 5)

Рейтинг комментария: